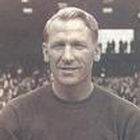«Дас вундер фон Бернд»Бернд Траутманн - голкипер «Манчестер Сити», в послевоенные годы покоривший Англию.
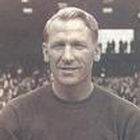
...Влево и вправо простиралось открытое пространство, а впереди просматривалась какая-то изгородь в человеческий рост. Бернд в изнеможении добрался до нее, из последних сил перевалился на другую сторону и упал рядом с английским солдатом, справлявшим малую нужду. Тот не спеша застегнулся и проговорил: «Чашечку чая, Фриц?» (Hello, Fritz, fancy a cup of tea?). Это была первая английская фраза, которую Траутманн запомнил на всю жизнь. Был поздний вечер, почти ночь, 27 марта 1945 года. Война для унтер-офицера-парашютиста (Fallschirmjaeger) Бернхарда Карла Траутманна закончилась. Четыре последних года из своих неполных двадцати двух он провел на войне.
Человек сам выбирает судьбу, но только из тех вариантов, которые она ему предоставляет.
Гарун Агацарский
Судьба есть функция темперамента, обстоятельств и поступков.
С.Ярославцев
У героя этого очерка много наград и отличий. Последнюю по счету премию ему вручали 31 октября 2008 года в Нюрнберге. Созданная в октябре 2004 года Германская Академия футбольной культуры (Deutscht Akademie fuer Fussball-Kultur) в третий раз в своей истории присуждала премию имени Вальтера Бенземанна «За особые заслуги в международных отношениях и межкультурном диалоге». Вслед за победителями прошлых лет великими футболистами Францем Беккенбауэром и Альфредо ди Стефано лауреатом премии стал Бернд (Берт) Траутманн, в игроцкой биографии которого есть только один выигранный приз - Кубок Англии 1956 года в составе «Манчестер Сити».
Но выбор лауреата не удивил четыре сотни приглашенных гостей, наоборот, они его всячески поддержали и одобрили! Ибо другого человека с такой биографией в мировом футболе просто нет.
Представлявший публике номинанта Карл-Хайнц Хайманн, издатель и бывший главред главного немецкого футбольного журнала «Киккер», отметив основные вехи жизни Траутманна, назвал его «спортсменом до мозга костей».
Вслед за 84-летним Хайманном к трибуне вышел 85-летний Траутманн и в течение двадцати пяти минут произносил свою Dankrede (благодарственную речь). Он говорил, волнуясь, но лишь изредка поглядывая в заготовки. Так же, как и Хайманн, Траутманн останавливался на узловых точках биографии, ведя отсчет с 1945 года, с того времени, когда началась «другая жизнь» и «другая биография». Вот с этого момента...
Один доллар - триллион марокВ два раза меньше провоевал его отец Карл в Первую мировую. Он был призван в армию сразу после окончания школы и провел два года на Западном фронте, во Франции и Бельгии.
Карлу, можно сказать, повезло. А как иначе сказать о человеке, который в течение двух фронтовых лет даже не был ранен (легкая контузия не в счет), не был отравлен газами, не заработал хронических заболеваний и вернулся в родной Бремен в конце 1918 года живым?
Положение дел и обстоятельства жизни в послевоенной Германии замечательно описаны в книгах Ремарка, Фаллады и других литераторов - деморализация, уныние, подавленность («нас предали!»). И безработица с инфляцией - тотальные, охватившие всю побежденную страну.
Карлу повезло еще раз, хотя здесь уже не только о везении должна идти речь.
Бременский порт не останавливался ни на день. В нем, кроме чисто портовых занятий - обслуживание прибывающих и отходящих с разнообразными грузами судов, можно было попытаться найти работу на многочисленных предприятиях, расположенных в самом порту и на прилегающей территории.
Отец Карла, работавший в управлении порта, помог сыну устроиться в фирму «Калле Хемикален», производившую минеральные удобрения. Работа тяжелая, вредная для здоровья, но на что еще мог рассчитывать демобилизованный без профессии с одним только школьным аттестатом в кармане! И такая работа была большой удачей. Всё познается в сравнении - его товарищи рысачили по городу и его окрестностям в поисках любой подворачивающейся работы, обычно разовой и мизерно оплачивающейся.
Карл постепенно становился «на собственные ноги». Через пару лет он смог позволить себе жениться на Фриде Эльснер, дочери мелкого торговца, за которой ухаживал всё это время, и снять для своей молодой семьи домик в Балле, приличном районе в западной части Бремена.
День рождения Бернда, первенца Фриды и Карла Траутманнов, в историю Германии вошел, так сказать, совсем по другому поводу. 22 октября 1923 года рейхсмарка «взяла очередную высоту» - за один доллар давали один триллион германских денежных знаков! Карл в последние месяцы таскал домой зарплату буквально мешками, но купить на эти деньги можно было немного. Например; килограмм хлеба стоил в конце октября 1923-го 200 миллиардов марок. Цены менялись, разумеется, в сторону повышения, по несколько раз в день и нужно было очень быстро успевать отовариваться.
От происходивших в то время политических событий (путч «черного рейхсвера», гамбургское восстание коммунистов, мюнхенский пивной путч) Траутманны были далеки. Карл, понятное дело, политические взгляды имел, но предпочитал ни в какие организации не вступать и ни в каких выступлениях не участвовать. Он работал в полторы-две смены и приходил домой только ночевать. Бернд и появившийся на свет через три года Карл-Хайнц оставались на попечении матери, вечнозанятой чем-то по дому и беготней по лавкам и базарам в поисках необходимого.
Удар по семейству Траутманнов, как и по миллионам других, нанес кризис 1929-го. Нет, Карл работу не потерял, но плата за домик стала неподъемной, и пришлось переселяться в квартиру, расположенную в Грёпелингене; в рабочем квартале. Мама Фрида тяжело переживала «понижение» статуса.
Зато Бернду в новом районе понравилось. Родительской опекой он и на прежнем месте не тяготился - загруженная до предела домашними заботами мать мало обращала внимания, где проводит время ее сын. Причина была в другом - буквально в двух кварталах начинались уже городские окрестности, то есть место для футбола и прочих игр.
Олимпийский чемпион и грамота от президента ГерманииА спорт занимал юного Бернда всё больше и больше. Спортивного сложения, сильный, крепкий и быстрый пацан, бегал лучше всех в школе. Уже в девятилетнем возрасте он побеждал в легкоатлетических соревнованиях ребят постарше, отлично играл в футбол, гандбол и фёлькербалль, популярную в те годы игру с мячом. (У нас подобная игра называлась «вышибалой» или «круговой лаптой».) Вот в этом «фёлькербалле» Бернд был особенно хорош - вышибить его было практически невозможно, он ловил все мячи, а затем со страшной силой запускал в соперника так, что тот ни поймать, ни увернуться не успевал.
Спортивные успехи Бернда впечатляли. В 1934-м 11-летний Траутманн даже получил почетную грамоту «За спортивные достижения», подписанную президентом Германии Гинденбургом. На Бремен прислали две таких грамоты, и одна из них досталась Бернду.
Новая власть, утвердившаяся в стране в начале 1933-го, особое внимание уделяла физическому воспитанию и спорту. Изменения, происходившие в школьных программах, были Бернду, так сказать, на руку. Он с удовольствием участвовал во всех спортивных состязаниях, добывал награды для родной школы и местного отделения «Юнгфолька», младшей возрастной группы «Гитлерюгенда» (от 10 до 14 лет). Он не пропускал всевозможные марши и походы, на посиделках у костра внимательно слушал рассказы о героях, военном товариществе и доблести. Бернд вместе с другими орал «Ди Фане Хох...», запоминал пункты из «определителя еврея» и маршировал под красным знаменем с черной свастикой в белом круге.
Еще он играл центрального нападающего в юношеской команде местного клуба «Блау-Вайс», влившегося вскоре в спортивно-гимнастическое объединение «Тура». В единственный выходной день, сыграв с утра за свою «Туру», Бернд ехал трамваем шестнадцать километров на другой конец города, чтоб успеть на очередной матч бременского «Вердера»: «Когда-нибудь я сыграю за него!»
Он с упоением и восхищением слушал по радио репортажи с Олимпийских игр в Берлине и даже через пятьдесят лет после них с ходу (подтверждено восхищенными свидетелями) называл имена победителей.
Через два года Бернд Траутманн уже сам выступал на столичном Олимпийском стадионе во всегерманских соревнованиях школьников, участников так называемого Landjahra. Школьников последнего года обучения, не всех, а избранных, отправляли на весь учебный год в хозяйство к какому-нибудь крепкому крестьянину на подмогу. Шесть дней в неделю ребята работали, а один день посвящали политзанятиям и военной подготовке. Весной 38-го Бернд в числе пятидесяти отобранных для этого дела бременцев поехал на такие военизированные сельхозработы в Саксонию.
Летом бременцы отправились в столицу на соревнования. Участники жили в бывшей Олимпийской деревне и состязались на Олимпийском стадионе. Команда Бремена стала второй. Также второе место в личном зачете занял их лидер, Бернд Траутманн, победивший в метании копья и попавший в призеры в беге на 60 метров, прыжках в длину и толкании ядра.
Романтика ВBCПо возвращении в начале 1939-го в Бремен нужно было определяться, чем заниматься дальше. Речь о продолжении учебы в гимназических классах не шла. Впервые у Бернда состоялся серьезный разговор с отцом, который предлагал идти к нему в порт. Сначала, однако, нужно было пройти через бюро по трудоустройству (Arbeitsamt). .Экономика Третьего рейха в конце 30-х уже в полную силу выполняла военные заказы, о безработице давно забыли, рабочие руки требовались на любом предприятии. В «Арбайтсамте» младшего Траутманна подвергли письменному экзамену, провели собеседование и дали направление на учебу в открывшееся в Бремене отделение фирмы «Ханомаг», производившей дизели для грузовиков.
Учеба заключалась в двухразовом посещении технической школы. Остальное время Бернд с одногруппниками работал на заводе слесарем-механиком. Молодые поступили под начало некоего шефа Будде, о котором Траутманн отзывался следующим образом: «Ни один фельдфебель в армии не произвел на меня потом такого устрашающего впечатления, как шеф Будде при первом знакомстве! Я чуть полные штаны не наложил...»
Работа в «Ханомаге» Бернда удовлетворяла вполне. И морально, и материально. Во-первых, он был при деле, которое ему нравилось («возня с моторами, что может быть интереснее!»), во-вторых, лучшего ученика Траутманна начальство поощряло командировками в деревню для ремонта сельхозтехники. Это действительно было поощрение. После введения жесткого нормирования продуктов питания в конце августа 1939-го, а попросту «продуктовых карточек» харчи, которые Бернд привозил из деревни, оказывались немалым подспорьем для семейства Траутманнов...
Работа и учеба стали для Бернда хорошей «отмазкой» от участия в идеологических сходках «Гитлерюгенда». Не потому что он вдруг «разочаровался», просто никогда не «заморачивался». Скучно ему было на политбеседах и официальных мероприятиях! Зато он играл в футбол на первенство города и был на хорошем бомбардирском счету.
Первая команды «Туры» становилась всё ближе еще и по другой причине - ребят постарше призывали в армию. Во время увольнения в город они иногда заходили в клуб, щеголяли новой формой, предлагали закурить и рассказывали о службе. Особенное впечатление на Траутманна производили байки будущих пилотов «люфтваффе», и Бернд решил, что ВВС - это для него. Нужно, правда, было немного подрасти. Не в прямом смысле, нет - к шестнадцати годам рост его был 180 см (позже Бернд добрал еще десять сантиметров). Просто не хватало пару лет.
Он отправился в военкомат в начале 1941-го и попросился в летную школу. Люфтваффе - элита германской армии. Пилоты - элита люфтваффе! Со своим простым происхождением Траутманн на пилота не вытягивал и вынужден был довольствоваться направлением в школу радистов ВВС в Шверине. От момента подачи заявления до призыва прошло три недели.
Лепка защитников из обезьянВсе представления об армии у Траутманна и его сверстников были почерпнуты из газет, радиопередач, а в основном - из занятий в Гитлерюгенде, где, муштруя будущих солдат рейха, выводили на первый план парадно-идеологическую составляющую службы. Реальность, с которой столкнулся Бернд в «учебке» для радистов, несколько приглушила его энтузиазм. Занятия по специальности, радиоделу, казались удовольствием по сравнению с казарменной муштрой по «лепке из обезьян защитников рейха» (любимая присказка местного унтера). Если кряхтел отлично физически развитый Траутманн, что же говорить об остальных...
Но радист Люфтваффе из Бернда не получился. Он не справлялся с постепенно увеличивающимися нормами передачи - сначала тридцать знаков в минуту, затем - сорок, пятьдесят, шестьдесят... Застрял где-то на сорока и - ни с места! Он был не один такой, отсеяли в школе немало.
В разговоре с командиром Траутманн попросил о переводе в другую часть, но обязательно из люфтваффе. Фамилии капитана, определившего судьбу Бернда на несколько лет вперед, он не запомнил. Капитан, оглядев высокого, крепко сбитого рекрута, предложил перейти в только что образованное под Берлином новое парашютное соединение. Траутманн согласился. «Если бы я знал тогда, что это означает, скорее всего, крепко подумал бы!»
В конце апреля Бернд уже тренировался в подразделении «Оденвальд». Траутманн: «Подготовка «бордфункеров» с занятиями парашютистов соотносится примерно как военные игры в «Гитлерюгенде» с занятиями в той же школе радистов. Здесь (в парашютистском лагере. - Б.Т.) не было разве что такого нервного напряжения, гораздо больше внимания уделялось физподготовке».
Парашютистов-десантников готовили к действиям за линией фронта. Они должны были уметь стрелять из всех видов стрелкового оружия, их обучали действиям при скоротечном огневом контакте, камуфляжу, постановке и снятию мин и прочим необходимым премудростям. Навыки нужно было довести до автоматизма - «у тебя не будет времени на раздумье». И венец подготовки - прыжки с парашютом с разных высот (от 150 до 1500 метров), при разной силе и направлении ветра.
После шести прыжков курсант получал нагрудный знак и звание. Oberjaeger (ефрейтор) Бернд Траутманн в конце мая 1941-го услышал вердикт fronttauglich (годен для фронта) и в составе первой сотни выпускников «Оденвальда» отправился в Польшу, в Замосць, для прохождения дальнейшей службы. Остальные прибыли позже.
В Советский Союз и тюрьму22 июня 1941 года траутманновское подразделение входило на территорию СССР вслед за танковыми и моторизованными соединениями. Задача - очистка тыла наступающих войск от партизан и остаточных групп противника.
В конце первой декады июля «Оденвальд» остановился в Бердичеве. Техника, на которой передвигался отряд, износилась и требовала ремонта. Группу разделили на две части - одна отправилась в Польшу на базу за требуемыми запчастями, а заодно и за пополнением, другая, в которую входил Траутманн, - осталась в городе на отдыхе. Бернду, как механику (два года на «Ханомаге» его многому научили), отдыхать не пришлось - то, что можно сделать на месте, выполняли он и еще несколько механиков постарше и поопытнее.
Вскоре «польская» бригада вернулась, ремонт пошел полным ходом, уже был назначен день выступления, но часть отправилась в дальнейший поход на юго-восток без Траутманна - он сидел под арестом, ждал суда и мучился непонятного происхождения болями в животе.
Дело в том, что один из унтер-офицеров попросил/приказал Бернда помочь ему в деликатном деле. Этот унтер не очень-то рвался участвовать в боевых действиях и предложил Бернду сделать так, чтоб его машина не завелась. Тогда его, унтера, оставят на месте чиниться дальше, потом можно будет долго догонять своих и т.д. Во время реализации этой сложной технической задачи («проверяющие тоже не дураки, правдоподобность должна быть на высоте!») их и застукал ротный фельдфебель. Доложил, само собой, по начальству, и командиру части ничего не оставалось, как отдать обоих под суд. Тот же командир и защищал Бернда перед трибуналом от обвинения в саботаже, напирая на молодость подсудимого (Траутманну еще не было восемнадцати!), неопытность и ложно понятое чувство товарищества. Ему удалось смягчить приговор с девяти месяцев тюрьмы до трех.
Заглянуть в глаза смерти первый разВ общем, «оденвальдцы» отбыли воевать в сторону Черного моря, а Траутманна отвезли в житомирскую тюрьму, исправно использующуюся по назначению любой властью еще с начала двадцатого века.
Посадили его в подвальную камеру, где на полу стояла вода, и в нешироком пространстве заключенные передвигались по деревянным мосткам. Соседей оказалось двое - эсэсовцы, получившие по трехлетнему сроку за то, что «не того местного расстреляли».
В камере Бернд даже суток не пробыл. После дневной прогулки он просто рухнул на койку и скрючился от страшной боли в животе. Сокамерники стали колотить в дверь и кричать, что «срочно нужен врач - новичок кончается». Вместо врача появился дежурный, который и привел коменданта тюрьмы.
Траутманн гораздо позже вспоминал: «В фильмах о войне часто фигурируют такие шумные, чванливые, презирающие всех немецкие офицеры. Вот такой тип пришел и спросил: «Ну, мелкий говнюк, докладывай, что с тобой!» Я сказал. «Ладно, врача пришлю. Если симулируешь, срок увеличу втрое».
«Везунчик ты, парень, - говорил ему на следующий день врач, - еще час-другой и твой аппендикс рванул бы...» Весь оставшийся срок Траутманн прокантовался сначала в лазарете - лечился, а затем при нем - помогал. В свою часть, базировавшуюся теперь в Днепропетровске, он вернулся в начале ноября. Начиналась морозная зима сорок первого, транспорт стоял на приколе, солдаты в очередь ходили за дровами в ближайший лес, разводили костры вокруг машин, не давая технике замерзнуть. Другие в это время патрулировали. В один из таких заходов Траутманн впервые убил человека. «Какие-то силуэты мелькали между деревьев. Партизаны? Я выстрелил. Одна из фигур упала... Никаких чувств. Смесь страха, инстинкта самосохранения и изнеможения (...) Военный суд, тюрьма и зима 1941/42 годов научили многому...»
В марте 1942-гo вместе с очередным званием Бернд получил трехнедельный отпуск. С десятикилограммовым «фюрерпакетом» харчей он появился на пороге родного дома. В нем, доме, всё было, как до войны - отец по-прежнему вкалывал в порту, мать хозяйничала, а 15-летний младший брат уже работал столяром. Больше всего отпускника поразило незнание земляков о происходящем на Востоке. По радио шли в основном победные реляции, о «некоторых неудачах» говорилось невнятной скороговоркой... Собственно, на фронте они тоже мало что знали не только о делах в тылу, но и о ситуации на других участках...
Бернд несколько раз встретился за кружкой пива с остающимися в тылу приятелями, немного погонял в футбол в обезлюдевшей «Туре» и отправился обратно. В Бремен он попадет теперь очень нескоро.
Первый плен - советскийТраутманн успел аккурат к началу нового весеннего наступления вермахта, вернее, к отражению отчаянного прорыва советских войск к Харькову. Тогда он в первый раз попал в плен.
...Траутманн рассказывал о своем военном прошлом скупо. Те, кто за ним записывал, достаточно вольно трактовали время и места происходящих событий. Во всяком случае, место захвата группы парашютистов войсками Красной Армии на исходе весны или в начале лета 1942-го - «близ Запорожья» - вызывает обоснованные сомнения. Думаю, что это произошло гораздо восточнее.
Там ли, в другой ли точке, но восемь бойцов траутманновского отделения попали в плен. К их удивлению, они не были расстреляны на месте. «Отнеслись к нам вполне... гм-м... спокойно, что ли. Отвели в штаб, а затем отправили приводить в порядок какое-то здание».
Обсудив положение, группа пришла к выводу, что после выполнения работы их всё равно пристрелят, поскольку часть боевая, с пленными им возиться - морока, а отправлять в тыл, сорвав для конвоирования людей с передовой, никто не станет. На третий день Бернд с двумя товарищами решился на побег. Им удалось уйти и вернуться в свою часть. Судьба пятерых не рискнувших осталась неизвестной.
Конечно, память, так сказать, избирательна.
Скажем, Бернд подробно вспоминает, как на рождество в декабре 1942-го, когда их подразделение уже находилось под Смоленском, он впервые в жизни «нажрался» кюммелем (тминная водка), что называется, до посинения. Он выпил не только свою бутылку, но и своего друга, Петера Кулартца, не пьющего ни при каких обстоятельствах. Разбудившему его, Траутманна, фельдфебелю, Бернд сразу же дал в морду («Моему удару мог бы позавидовать даже Макс Шмелинг!»). Товарищи выволокли его на улицу, сунули в снег, пока он окончательно приходил в себя на двадцатиградусном морозе, горько шутили, что теперь понятно, зачем они вчера долбили землю и копали яму двухметровой глубины рядом с бараком. «Предусмотрителен наш фельфебель, зараза...». Однако чувствовавший настроение вояк начальник ходу этому случаю не дал. Траутманн извинился, и инцидент был исчерпан.
Или вспоминал о том, как минировал ночью аэродром в городе Вязьма перед отступлением в марте 1943-го. Бернд с товарищами прикрепляли мины к цистернам, железнодорожным путям и оборудованию внутри ангаров. «Я зацепился за ящик с боеприпасами, упал на здоровенную авиабомбу и замер. В тишине я слышал только стук своего сердца. Значит, жив. Я осторожно поднялся и... залился идиотским нервным смехом. Боже, на какой ниточке висит наша жизнь (...) Этот день не стал днем моей смерти...»
О других своих деяниях на Восточном фронте он говорил коротко: «Я стрелял, в меня стреляли...» Хотя почему только на Восточном!
Второй плен - французскийВ марте 1943-го после подрыва вязьминского аэродрома траутманновское подразделение перебросили во Францию, в Мелюн, что неподалеку от Парижа. Впервые после окончания десантной школы Бернд прыгал с парашютом. Бывшим «оденвальдцам», разбросанным по разным частям, в том числе и унтер-офицеру Траутманну (звание и Железный крест он получил еще под Смоленском), предстояло переформирование. Там в Мелюне, выяснилось, что из тысячи человек, с которыми «выпускался» Бернд в мае сорок первого, в живых осталось девяносто.
К ним добавили толпу «неудачников» летных и зенитных школ - тех, для кого уже не хватало самолетов и зениток, перемешали и отправили в Дижон на переподготовку. Для Бернда это означало только шесть обязательных прыжков с парашютом. Всему остальному он мог сам научить любого.
В мае 1944-го Бернд находился в Сен-Валери-сюр-Сомм, месте, где воевал его отец двадцать семь лет назад. В этих краях теперь строился Атлантический вал, германские войска готовились отразить вторжение союзников.
Франция - это не Восточный фронт. Но Движение сопротивления здесь функционировало и доставляло немало неприятностей оккупационным войскам. Однажды в ловушку, устроенную партизанами угодила небольшая группа, в которую входил и Траутманн. Их обстреляли, окружили и вынудили сдаться.
Пленников, связанных и с кляпами во рту, содержали по отдельности. Траутманну через тридцать часов удалось справиться с веревками и бежать, единственному из всех. Он добрался до своих, и тут как раз началась высадка союзников.
Подразделение Траутманна отступало вместе с другими войсками и в сентябре оказалось в Голландии, в Арнеме. Части 1-й парашютной армии поддерживали Ваффен-СС в отражении десанта своих, так сказать, британских, канадских и польских коллег, имевших задачу захватить мосты в районе города. История гибели десанта союзников в художественной форме изложена в известном фильме английского режиссера Ричарда Аттенборо «A Bridge Too Far» («Мост слишком далеко»). Непосредственный участник этой «мясорубки» (десант был почти полностью уничтожен) Бернд Траутманн вспоминал о беспомощных, запутавшихся в ветках деревьев парашютистах союзников, которых тут же срезали пулеметным огнем, о немногих взятых в плен, которых он лично конвоировал в тыл.
«После этих боев у меня осталась только одна задача - выжить...»
Три дня под развалинамиКлефе - город на германо-голландской границе. Сюда, на двухдневный отдых перед очередным назначением, были отправлены «ошметки» траутманновского подразделения. 7 октября 1944 года Клефе был подвергнут массированному авианалету британских ВВС.
Траутманн: «Когда прозвучал сигнал воздушной тревоги, я вместе с десятками, если не сотнями других солдат и гражданских успел заскочить в близлежащую школу и ринулся в подвал. Как только я добрался до цели, школа взлетела на воздух».
Бернд с еще одним солдатом сидели в шкафу для санинвентаря, когда одна из бомб угодила точно в здание школы.
«Я очухался через несколько минут после взрыва и понял, что зажат обломками. К моему удивлению, голова была совершение цела. Дышать было трудно - воздух был полон пыли. Мой «сошкафник» тихо стонал рядом. Одну руку я с трудом освободил и стал выковыривать изо рта грязь. Я поймал себя на том, что кричу и только набираю в легкие новую порцию этой взвеси из пыли. Рот пришлось захлопнуть. Вскоре я услышал, что в развалинах копошится «хилъфскоммандо» (спасатели), но до нас с напарником они добрались только на третий день. Из тех, кто укрылся в школе, в живых остались лишь мы двое».
Траутманн добрался до своих «оденвальдцев» (из ветеранов остались единицы, и они, двадцатилетние «деды», старались держаться вместе) и в декабре уже участвовал в Арденнской операции - прорывался к штабу 1-й американской армии в Спа, ходил в рейды по коммуникациям союзников. Когда арденнский прорыв был остановлен, Траутманна со товарищи отправили в Крефельд, организовывать фольксштурмистов - смесь подростков и стариков, а заодно патрулировать район.
Во время одного из рейдов их обстреляли с пикирующего штурмовика. После обстрела поднялись только двое - не получившие ни единой царапины Траутманн и последний его друг с 1941-го Хайнц Шнабель.
Характерно, что запомнил (или захотел рассказать) Траутманн: «...Мы сидели друг напротив друга, Хайнц достал сигарету, закурил. У меня курева не было, и я попросил у него. «Извини, камрад, последняя», - услышал я в ответ. Раньше мы всегда делились всем что было, а тут такое... Я ударил его, выматерил, встал и пошел (...) Больше я никогда не видел Хайнца, искал после войны через Красный крест, хотел поговорить, извиниться...»
Третий плен - американскийШел март 1945-го, война неизбежно катилась к концу, и Бернд решил: «Всё, хватит!» Он пробирался в Бремен, старательно избегая встречи как с врагами, так и со своими, особенно с эсэсовскими патрулями, рыскавшими в поисках дезертиров. На одном хуторе в крестьянском семействе он обнаружил грузовик и несколько тяжелораненых, которых крестьяне подкармливали. Отлично! Он отвезет раненых в лазарет, а на машине попробует добраться до Бремена. Но, выехав из госпиталя, Бернд банально заблудился и направился в обратную сторону... Он добрался до какой-то усадьбы, оставил машину, пошел к дому и... слишком поздно заметил, что тот занят американцами. Бернд потянулся за оружием и тут же был сбит с ног ударом сзади прикладом по голове...
Бегло говоривший по-немецки капитан, к которому приволокли потихоньку приходящего в себя Траутманна два здоровенных «джи-ай» («Оба были с меня ростом, но точно потяжелее»), стал задавать стандартные вопросы: «Кто, откуда, номер части и т.д.». Ситуация была аховая. Среди десантников ходили разговоры, что в американской армии существует приказ парашютистов в плен не брать, «потрошить» на месте, а затем уничтожать. То ли по этой причине, то ли потому, что туман в голове после удара еще не рассеялся, но он назвал только свое имя и замолк. Капитан подумал и скомандовал: «Выводи!». Те же два бойца повели Бернда на выход. «Расстреляют ведь!»
Он шел впереди с поднятыми руками. «Они что-то кричали за моей спиной. Я ничего не понимал и инстинктивно убыстрял шаги. Было отчаянно обидно - пройти всю войну, побывать в жутких переделках, потерять всех товарищей и теперь «при попытке к бегству» (...) Окрики постепенно становились тише. Они что, отстали или остановились? Я не смел обернуться (...) И тогда я побежал. Боже, я никогда так быстро в жизни не бегал, ни на соревнованиях, ни от сурового наставника Будде на «Ханомаге», ни от кого и никогда... А они так и не выстрелили...»
Плен четвертый и последний - английский...Влево и вправо простиралось открытое пространство, а впереди просматривалась какая-то изгородь в человеческий рот. Бернд в изнеможении добрался до нее, из последних сил перевалился на другую сторону и упал рядом с английским солдатом, справлявшим малую нужду. Тот не спеша застегнулся и проговорил: «Чашечку чая, Фриц?» (Hello, Fritz, fancy a cup of tea?). Это была первая английская фраза, которую Траутманн запомнил на всю жизнь.
Почти сутки он спал. И разбудить его не мог даже постоянный гомон обсуждавших свою участь соседей по сараю, в который наступавшие сгоняли заблудившихся или добровольно сдавшихся немцев. Англичане из роты связи, в расположение которой и вышел Траутманн, пленными не интересовались, пару раз накормили, а затем отправили в лагерь в Остенде, на бельгийское побережье Северного моря.
Там пленных сортировали, снимали первичный допрос, а затем, предварительно обработав ДДТ, грузили на суда и отправляли в Англию. Как выразился сам Траутманн, «после месяцев хаоса в мою жизнь возвращался порядок».
...Можно ли говорить, что ему повезло? Наверняка! Главное - он остался жив, иногда чудом. Он не получил ни одного серьезного ранения, которое могло сделать его инвалидом. (Только однажды, уже на Западном фронте, после разрыва гранаты из его тела извлекли шестнадцать осколков: «Так, царапины»)... Три удачных побега из плена... А почему судьба забросила его именно в английский лагерь? Неужели берегла для футбола? (К слову, Карл-Хайнц Хайманн, упомянутый в начале очерка, многолетний бессменный редактор «Киккера» и большой друг футбольных журналистов из СССР, семь лет пробыл в советском плену и вернулся в Германию в 1952-м...)...
Первый лагерь, расположенный в Кемптон Парк возле Санбери на Темзе, был фильтрационным, через него прошла большая часть двухсот тысяч немецких и итальянских военнопленных, уже в апреле сорок пятого находившихся на Британских островах.
Всех пленных делили на три группы по степени «вовлеченности» в дела Третьего рейха. Группа «А», самая малочисленная, включала в себя противников нацистского режима. Впрочем, постепенно, уже в лагере, их количество (правда, неожиданно, да?) становилось всё больше, но начальство не торопилось переводить в «А» основной контингент, составлявший группу «В», людей аполитичных, коих в армии, особенно в нижних чинах большинство. «Нас толкнули - мы упали, нас подняли - мы пошли»...
Их тщательно проверяли, в том числе и при помощи солагерников. Была и группа «С», такая же многочисленная, как и «В». Сюда, кроме идейных наци, зачислили всю молодежь, выросшую уже при гитлеровской власти, резонно полагая, что впитанную в юном возрасте идеологию «вымывать» будет сложнее всего. Понятно, что 21-летний Траутманн, парашютист из спецподразделения, награжденный Железным крестом «за храбрость» и еще несколькими медалями, очутился в «С». Отягощающим в глазах англичан обстоятельством было то, что большую часть наград Бернд получил после 1943-го, то есть на Западном фронте. Пленных из группы «С» допрашивали чаще и дольше, чем других, некоторых довольно быстро из лагеря изымали и отправляли под суд.
Бернд исправно рассказывал на допросах и о Юнгфольке, и о Гитлерюгенде, и о службе («Они знают о нас только то, что мы сами им говорим»), но считал, что особо опасаться ему нечего: «Ни в каких акциях против мирного населения участия не принимал», а остальное... «Так на войне стреляют и убивают...»
Разжалование из наци в шоферыСледующий лагерь в Норвиче, рассчитанный на три с половиной тысячи немецких военнопленных (итальянцев отправляли в места с облегченным режимом содержания), был поделен на две зоны - обычную (восточную) и усиленную (западную). В обьгчной содержались пленные из «А» и «В», в усиленной - из «С». «Восточники» работали за территорией, особо отличившиеся получали увольнение, «западных» из лагеря не выпускали.
Траутманн: «Единственной отрадой был футбол. Особенно азартно и жестко проходили игры между зонами. Поле было только у них, у привилегированных. Нас под охраной пропускали к ним в ту часть лагеря, и начиналось настоящее сражение. Похоже, «восточники» ненавидели нас не меньше, нежели англичане. Вместо обычной игровой ругани от них только и слышно было: «Убийцы! Нацистские свиньи!». Ну, и драки были постоянные - на поле и вне его. Судил эти матчи здоровенный такой английский солдат. Думаю, что не добровольно, проштрафился, наверное, вот и отправили его нас разнимать. Но, что ни говори, это был футбол! Я играл левого полусреднего, команда у нас была посильнее, так что проиграли мы им всего один раз»...
Бернда вскоре перевели в группу «В» - из «опасных» он перебрался к «попутчикам», а вскоре ему, как и всем бывшим водителям, предложили подтвердить свое умение управлять автомобилем. Шоферов не хватало, и пленные водилы получали шанс. Предпочтение отдалось старым опытным солдатам, но попытаться мог любой.
Водителям предстояло показать свое умение в вождении тяжелого грузовика по бездорожью на специальной трассе с ухабами, рытвинами и колдобинами. Один из испытуемых вел машину совсем неудачно. Грузовик подскакивал, рыскал и в такт ему взлетал и подскакивал водитель в кабине. Бернда, дожидавшегося очереди в хвосте с молодыми, это позабавило - «Как кенгуру!», - и он громко засмеялся.
Траутманн: «Надзирал за всей процедурой и командовал отбором сержант-шотландец. Он был отчего-то явно не в духе и постоянно сыпал ругательствами (эти слова мы уже понимали). Он вытащил беднягу из кабины, повернулся к нам и уставился на меня: «Веселишься, ты, тупой безмозглый краут (Kraut,- кислая капуста, так распространенное среди англичан презрительное прозвище для немцев. - Б.Т.)! Марш за руль!» Я полез в машину. Опыт вождения на Востоке пригодился, мне удалось проехать всю дистанцию быстро, без прыжков и подскоков».
Спустя несколько дней, в начале июня 1945-го, Бернд был переведен в другой лагерь - Camp 50. Он всегда упоминается во всех текстах о Траутманне, поскольку тут он провел без малого три года и здесь началась его футбольная слава местного значения.
Два немца равны пяти итальянцамПоложение Траутманна улучшилось стремительно. Оказывается, его отправили в «Camp 50» работать драйвером у одного из замначальников лагеря. Мало того, его поместили не в барак, а предоставили отдельную комнату в доме, где жила английская обслуга. Не за забором! Хотя лагерь был предназначен для итальянских пленных, немцев в нем было очень мало, а режим - помягче, чем в предыдущем, но лагерь есть лагерь.
Летом разрешили письма в Германию. Бернд написал о своем положении, житье-бытье в английском плену и вскоре получил ответ. Мать сообщала, что «в Бремене полный хаос, за три месяца после окончания войны мало что изменилось, разве что не стреляют. Порт разбомблен, и работы у отца пока нет, младший брат, несмотря на молодость, сидит в тюрьме у союзников, его проверяют». И заключала: «Я рада, Берни, что у тебя всё в порядке. Похоже, тебе в Англии сейчас лучше, чем нам в Бремене - кормежка, крыша над головой...»
Немецким военнопленным в Англии действительно жилось относительно неплохо. Они получали трехразовое питание и даже оплату за работу у местных крестьян. Когда всех итальянцев отправили в другую часть страны, а лагерь заполнили немцами, у комендатуры выстроилась очередь фермеров. Из их опыта следовало, что в работе два немца «были равны» пяти итальянцам, а поскольку платить нужно было «с головы», экономия получалась немалая. Вот и приходили местные хозяева за «краутами».
Траутманн в работе на местных полях участия не принимал. Он возил начальство, а также регулярно два раза в неделю мотался на близлежащие железнодорожные станции в Уиган или Сент-Хеленс, откуда привозил лекторов и преподавателей. Пленных обучали английскому языку, а также рассказывали о деяниях их же соплеменников. Им демонстрировали фильмы о концлагерях и преступлениях национал-социализма.
Траутманн: «Фильм об Аушвице или Берген-Бельзене производил куда большее впечатление, чем десяток лекций о демократии. Мы убедились, что мир не зря нас возненавидел, и проникались ощущением коллективной вины...»
В отношениях же с местным населением, с которым Бернд сталкивался практически каждый день, никакой напряженности не было. «Конечно, если б лагерь был в районах, сильно пострадавших от бомбардировок, скажем, под Лондоном, всё могло сложиться иначе, а здесь, в шахтерском крае, было именно так. К нам относились вполне доброжелательно...». Ну, и девицы. Слабый пол первым «пробил блокаду» вокруг немецких военнопленных. Понятно, что Траутманн пользовался успехом, но высокий, светловолосый и сероглазый красавец (ариец с агитплаката!) до поры до времени был достаточно осторожен...
Когда лагерь окончательно заполнился немцами (в числе новоприбывших из американских лагерей оказались и два товарища Траутманна по бременской «Туре»), начались футбольные баталии. Они стали основной отдушиной, в том числе и для Бернда. Лагерникам позволили разметить и оборудовать поле. За свой счет, разумеется - материал для ворот, например, доставали на «черном рынке». Теперь всё свободное время желающие проводили на этом поле.
Траутманн играл по-прежнему впереди - левого инсайда по классическому «дубль-вэ-эм». Однако когда вратарь сборной лагеря Гюнтер Лур получил травму, в рамку как самому длинному пришлось встать Бернду. В юношах ему иногда приходилось играть голкипером по тем же причинам - травма вратаря и высокий рост, так что дело это для него не было в новинку.
Превращение в англичанинаПонемногу лагерные футболисты стали играть не только между собой, но и с командами окрестных деревень и городков.
В начале сорок седьмого сборная лагеря во второй раз обыграла местный «Холи Кросс», и Боб Лейланд, играющий президент клуба, пошел договариваться с комендантом лагеря о матче-реванше на поле в Сент-Хеленсе, поскольку на передвижение лагерников за пределы «трехмильного радиуса» было запрещено. Начальство дало «добро».
Лейланд: «Конечно, мы и эту игру проиграли. Мы и не могли выиграть. Их вратарь брал все мячи, даже пенальти взял. Собственно, я еще раз утвердился в первом впечатлении - голкипера лучше этого Траутманна я еще не видел ни разу в жизни»...
Вскоре Бернд уже защищал ворота команды из Сент-Хеленса - St.Helens Town, выступавшей в Ливерпульской лиге (Liverpool Combination League). В эту лигу входили команды промышленных предприятий региона, были они стопроцентно любительскими и выплачивали своим игрокам не зарплату, а что-то вроде небольшой компенсации, контрактов никаких не наблюдалось.
«Поводок», на котором держали военнопленных, со временем удлинялся - были отменены некоторые запретительные меры. Траутманн смог, например, ездить в Ливерпуль и на «Гудисоне» наблюдать за впечатлившей его игрой вратаря «Эвертона» Теда Сагара.
Траутманн изучал увиденное, с немецкой педантичностью и настойчивостью отрабатывал понравившиеся ему приемы. Вратарские данные у Траутманна (притом что он очень неплохо действовал и в поле) были просто идеальные: высокий рост, длинные руки и кулак, перефразируя принятое у нас выражение с учетом траутманновского происхождения, «как голова юнгфольковца». Добавьте к этому природную скорость, мгновенную реакцию, усовершенствованную в десантной школе, прыгучесть, резкость, точный дальний бросок мяча руками (спасибо фёлькербаллю!) и, самое главное, бесстрашие - компонент, без которого вратарю на поле делать нечего и сейчас, а в те годы, да еще в английском футболе, тем более.
Единственное, чего не было у Бернда - вратарской школы, но он интуитивно двигался в правильном направлении.
На него стала ходить публика. Количество зрителей, приходящих поглазеть на нового вратаря, увеличивалось с каждым матчем. Логично, что немец стал любимцем местной публики, а слухи о нем стали распространяться далеко за пределы городка.
В конце 1948-го правительство Ее Величества издало решение об отправке военнопленных домой. Желающие могли съездить на родину сначала в отпуск (дорогу оплачивала казна), и только потом принимать решение, уезжать насовсем или нет. Лагеря, в том числе и «Camp 50», закрыли, и Бернд проживал то в доме Джека Фриара, мелкого бизнесмена, первого секретаря сентхеленского футбольного клуба, то в специальном общежитии для саперов, поскольку работал, можно сказать, по специальности - он входил в спецгруппу, которая занималась поиском и обезвреживанием мин и неразорвавшихся авиабомб.
В январе 1949-го он решил воспользоваться «указом» и проведать в Бремене родных, с которыми не виделся уже семь лет.
До поездки предстояла еще одна игра за «Сент-Хеленс». «Не знаю, почему, но я пропустил два «детских» мяча, и мы проиграли. Ребята меня успокаивали. Фаны после игры пригласили в паб, и разговор вертелся вокруг моего предстоящего визита домой». О том, что произошло в пабе, Бернд рассказывал во всех интервью, подчеркивая, что действо было немыслимым и неожиданным для него.
«Берт (его все уже называли по-английски.- Б.Т.), мы тут собрали небольшую посылочку для твоих родителей и брата, прими!» - сказал один из одноклубников. Траутманн: «Они подтащили к столу чемодан..., нет, это было скорее похоже на небольшой шкаф, весил он не меньше тридцати килограммов и чего там только не было - сахар, ветчина, печенье, консервы... Продовольственные карточки еще не были отменены, а все эти продукты на «черном рынке» стоили бешеных денег. Я был ошарашен, не знал, что сказать, и тут меня «добили» окончательно. Кто-то протянул мне кошелек, в котором оказалось пятьдесят однофунтовых банкнот. Горло перехватило, и я чуть не расплакался...» (В «бенземанновской» речи голос Траутманна дрогнул, и лауреат смахнул слезу. - Б.Т.)
...Он сидел в родительской квартире, в которой после налета англичан для жилья оставались пригодными две комнаты из трех, и говорил о своей жизни. Мать и отец просто были рады его приезду и в слова особо не вслушивались, зато младший брат, прервав рассказ Бернда о радушии англичан, зло заключил: «Или ты всё врешь, или сам стал проклятым англичанином...».
Траутманн: «В каком-то смысле он был прав. У меня уже было мало общего с родными или нашими соседями (...) С тех пор я очень часто чувствовал, что у меня два сердца, или одно из двух половин - английской и немецкой...»
(окончание следует)